Зло в топе: что True Crime говорит о нас и индустрии
Психология, форматы и российская специфика
Введение
True crime – это жанр документального повествования о реальных преступлениях, в котором авторы исследуют детали историй, мотивы преступников, работу следствия и судьбы жертв. В последние десятилетия true crime превратился в глобальный медиa-фeномен: документальные сериалы регулярно выходят в топы стримингов, подкасты бьют рекорды прослушиваний, а на YouTube миллионы зрителей смотрят любительские расследования.
Мы решили изучить этот феномен и подготовили для вас большое исследование на эту тему. В него вошли все ключевые аспекты этого явления: от исторических истоков до сегодняшних трендов, общий анализ, причины популярности, аудитория, форматы, экономика жанра, российская специфика и связанные с этим форматом этические дебаты и прогнозы на будущее.
Мы решили изучить этот феномен и подготовили для вас большое исследование на эту тему. В него вошли все ключевые аспекты этого явления: от исторических истоков до сегодняшних трендов, общий анализ, причины популярности, аудитория, форматы, экономика жанра, российская специфика и связанные с этим форматом этические дебаты и прогнозы на будущее.
I. История жанра true crime: от бульварных брошюр до подкастов и YouTube
Документальные истории о преступлениях имеют долгую историю. Ещё в XVI–XVII веках в Европе публиковались криминальные памфлеты – короткие брошюры о убийствах и казнях. Эти тексты, часто продававшиеся на улицах, рассказывали реальные криминальные сюжеты, иногда с морализаторским уклоном или, напротив, сенсационными деталями, чтобы шокировать читателя. В Англии тюремные священники публиковали истории осуждённых - например, капеллан Генри Гудкол записывал исповеди преступников и выпускал их отдельными изданиями. К XVIII–XIX векам интерес к таким историям только вырос: появлялись сборники судебных очерков и журналистские очерки о громких делах. Например, в 1827 году писатель Томас Де Квинси опубликовал эссе «Убийство как одно из изящных искусств», рассматривая не само убийство, а реакцию общества на него. В США одной из ранних вех жанра стала книга Генри Тафтса (1807) – автобиография преступника, а затем работы Эдмунда Пирсона в 1920-х, публиковавшего правдивые криминальные рассказы в престижных журналах вроде The New Yorker.
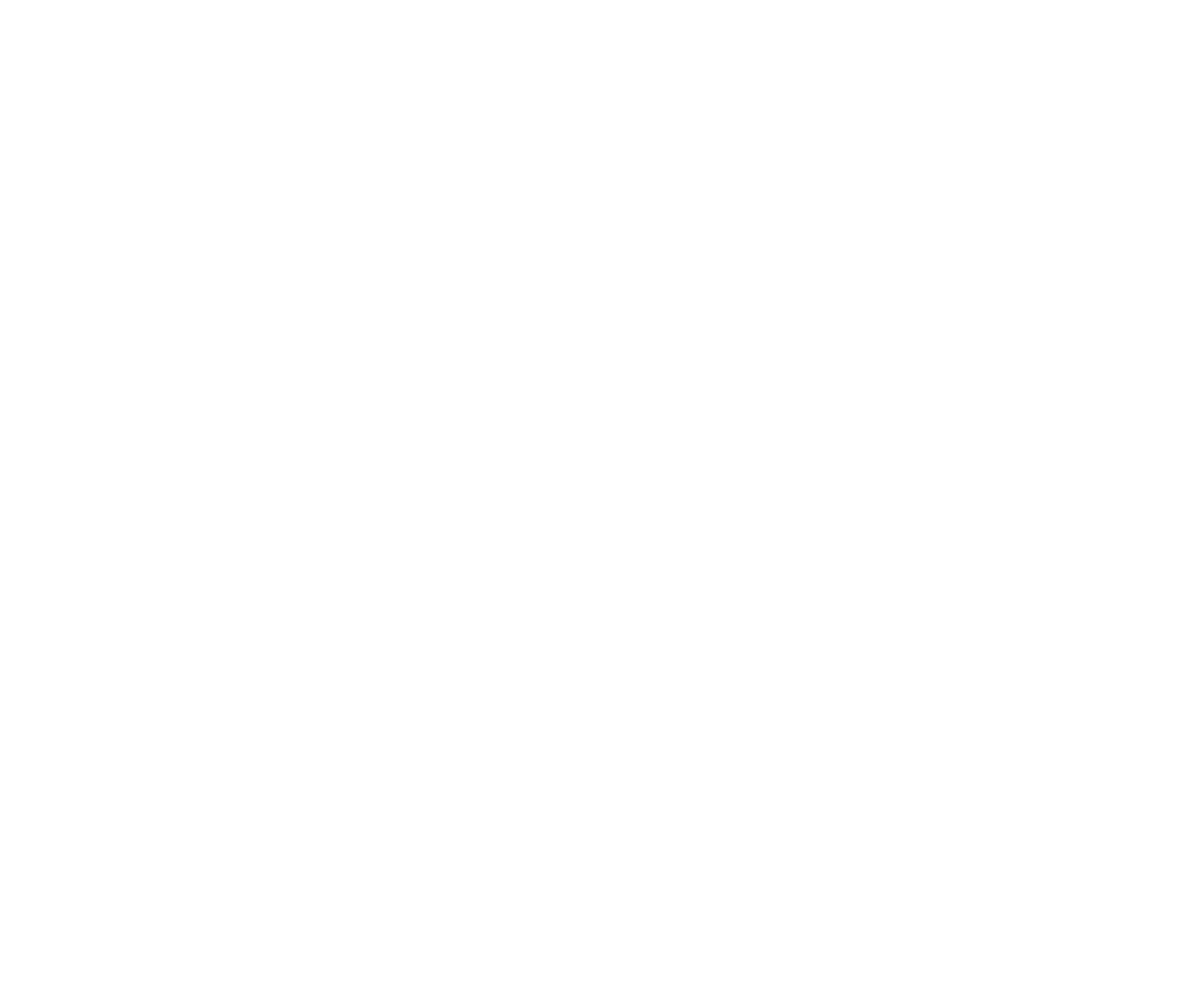
Как самостоятельный жанр термин true crime утвердился в середине XX века. Классическим отправным пунктом считается нон-фикшн роман Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» (1966), где писатель детально расследовал убийство семьи в Канзасе. Книга стала бестселлером и задала литературный стандарт жанра – тщательно документированное расследование, поданное как захватывающий сюжет. С конца 1960-х и особенно в 1970–1980-е в США наблюдался всплеск интереса к историям о серийных убийцах. В этот период появились и специальные термины: агент ФБР Роберт Ресслер ввёл понятие «серийный убийца» (сер. 1970-х), а общественность узнала имена Чарльза Мэнсона, Теда Банди и других маньяков, чьи преступления широко обсуждались в СМИ и книгах. В то же время на Западе формируется телевизионный формат: документальные программы о нераскрытых преступлениях и судебных делах (например, американские шоу Unsolved Mysteries или America’s Most Wanted в 1980-х) начали привлекать массовую аудиторию.
Новый виток развития true crime связан с цифровой эпохой. В 2000–2010-х жанр вышел на экраны стриминговых платформ и в аудиоформат. Настоящим феноменом стал документальный сериал «Создавая убийцу» (Making a Murderer, 2015) на Netflix – многосерийное расследование судьбы Стивена Эйвери, несправедливо осуждённого, а затем вновь обвинённого в убийстве. Этот сериал, снимавшийся более 10 лет, не только привлёк огромную аудиторию, но и спровоцировал общественную дискуссию о сбоях в правосудии. За ним последовали другие хитовые проекты: от детективных сериалов канала HBO (например, «Лжец, Великий и Ужасный» о мошеннике Роберте Дёрсте) до документалок Netflix о серийных убийцах (Conversations with a Killer) и аферистах («Аферист из Tinder» и др.). Практически ежегодно выходит несколько резонансных true crime-фильмов или сериалов, а в одном только 2016 году Netflix выпустил 126 проектов в этом жанре – показатель невероятного спроса.
Новый виток развития true crime связан с цифровой эпохой. В 2000–2010-х жанр вышел на экраны стриминговых платформ и в аудиоформат. Настоящим феноменом стал документальный сериал «Создавая убийцу» (Making a Murderer, 2015) на Netflix – многосерийное расследование судьбы Стивена Эйвери, несправедливо осуждённого, а затем вновь обвинённого в убийстве. Этот сериал, снимавшийся более 10 лет, не только привлёк огромную аудиторию, но и спровоцировал общественную дискуссию о сбоях в правосудии. За ним последовали другие хитовые проекты: от детективных сериалов канала HBO (например, «Лжец, Великий и Ужасный» о мошеннике Роберте Дёрсте) до документалок Netflix о серийных убийцах (Conversations with a Killer) и аферистах («Аферист из Tinder» и др.). Практически ежегодно выходит несколько резонансных true crime-фильмов или сериалов, а в одном только 2016 году Netflix выпустил 126 проектов в этом жанре – показатель невероятного спроса.
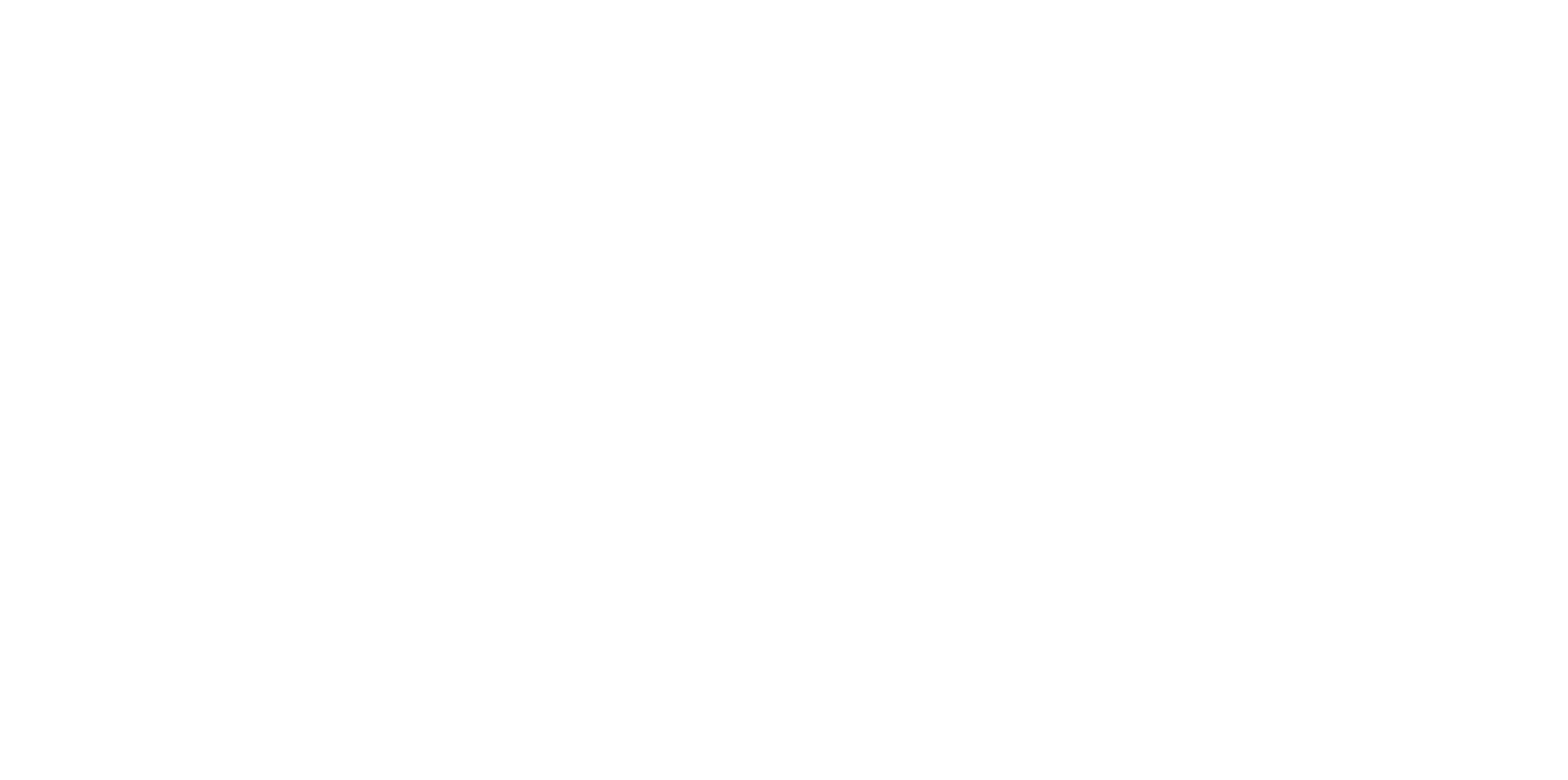
Параллельно произошёл бум true crime-подкастов. Отправной точкой стал подкаст Serial (2014) – журналистское аудио-расследование убийства школьницы в Балтиморе. Serial произвёл эффект разорвавшейся бомбы: за считаные месяцы его скачали более 70 миллионов раз, он стал первым подкастом, получившим столь широкое освещение, и фактически популяризировал формат длительного аудиорасследования. К 2018 году Serial суммарно скачали уже 340 миллионов раз. Успех Serial породил волну: появились сотни новых подкастов о реальных преступлениях, такие как Dirty John, My Favorite Murder, Someone Knows Something и многие другие. Сейчас true crime – один из самых популярных жанров подкастинга: по данным Edison Research, в США он входит в топ-5 жанров, а 42% американцев 13+ хотя бы раз слушали true crime-подкаст. Подкасты расширили географию жанра – помимо США и Европы, успешные проекты появились в Латинской Америке, Азии и Африке - и начали рассказывать уже о локальных историях.
Наконец, свою нишу занял YouTube. В 2010-х появились десятки независимых ютуб-каналов, где энтузиасты рассказывают о запутанных делах, маньяках и пропавших без вести. Некоторые из них стали чрезвычайно популярны. Например, англоязычные блогеры Bailey Sarian или Kendall Rae собирают миллионы просмотров, смешивая формат «storytelling» с личной подачей (макияж + история убийства, разбор допросов и пр.). В 2020-х на YouTube набирает обороты и русскоязычный true crime (о нём подробнее ниже). Таким образом, жанр прошёл путь от дешёвых бульварных брошюр и книжных сериалов столетней давности – до высокобюджетных сериалов Netflix и пользовательского контента в интернете.
Наконец, свою нишу занял YouTube. В 2010-х появились десятки независимых ютуб-каналов, где энтузиасты рассказывают о запутанных делах, маньяках и пропавших без вести. Некоторые из них стали чрезвычайно популярны. Например, англоязычные блогеры Bailey Sarian или Kendall Rae собирают миллионы просмотров, смешивая формат «storytelling» с личной подачей (макияж + история убийства, разбор допросов и пр.). В 2020-х на YouTube набирает обороты и русскоязычный true crime (о нём подробнее ниже). Таким образом, жанр прошёл путь от дешёвых бульварных брошюр и книжных сериалов столетней давности – до высокобюджетных сериалов Netflix и пользовательского контента в интернете.
II. Причины популярности: психологические, культурные и медийные факторы
Почему же мрачные истории о преступлениях столь привлекательны для массовой аудитории? Психологи и социологи предлагают несколько объяснений, отражающих как свойства нашей психики, так и особенности современной культуры.
- Эмоции в безопасной обстановке. Просмотр или прослушивание криминальных историй позволяет испытать страх и адреналин, оставаясь при этом в безопасности. По эффекту это схоже с фильмами ужасов или аттракционами: пугающий контент запускает выброс адреналина, учащает пульс, а когда страшный эпизод заканчивается, приходит облегчение и выброс дофамина – мозг воспринимает, что «угроза миновала». Такое контролируемое погружение в страх парадоксально может приносить удовольствие. Многие зрители признаются, что true crime помогает им ощутить себя в безопасности по контрасту: «Фух, хорошо, что это случилось не со мной – я-то сижу дома под пледом с чашкой чая!». Этот контраст реальной угрозы на экране и комфорта вокруг создаёт притягательное чувство защищённости в момент опасности.
- Любопытство к тёмной стороне и эффект расследования. True crime истории удовлетворяют наше естественное любопытство к тому, что скрывается за гранью обычной жизни. Реальные преступления выходят за рамки повседневных норм, и у людей издавна был интерес к «монстрам среди нас» – об этом писали ещё в XIX веке, описывая сериализованных убийц как нечто завораживающе ужасное. Кроме того, такие сюжеты поданы часто как детективная загадка. У аудитории возникает эффект соучастия в расследовании: слушатель или зритель пытается разгадать тайну вместе со следователями. Кто-то идентифицирует себя с жертвой и сопереживает, а кто-то – с сыщиком, который по ниточкам разбирает дело. Желание докопаться до истины, узнать разгадку загадочного преступления – мощный драйвер интереса. Психологи отмечают, что незавершённые истории цепляют сильнее завершённых (так называемый эффект Зейгарник). Если преступление не раскрыто, у аудитории возникает навязчивая потребность держать его в уме, обсуждать, искать новые факты – и true crime как раз подпитывает эту вовлечённость.
- Переключение и стресс-терапия. Погружение в чужие трагические истории нередко служит способом отвлечься от собственных проблем. Некоторые поклонники жанра признаются, что страшилки их… успокаивают. На фоне сюжетов про маньяков бытовые заботы кажутся мелкими, а сам процесс просмотра может парадоксально снизить тревожность. Специалисты объясняют это тем, что захватывающая страшная история полностью поглощает внимание, вытесняя повседневные тревоги. Кроме того, когда все ужасы происходят на экране, у человека возникает иллюзия контроля над ситуацией – ведь он лишь наблюдатель, которому ничего не угрожает. Так, социальный психолог Али Матту отмечает: увлекательный триллер или true crime-сюжет могут помочь переключиться – мы боимся, но чувствуем контроль, и в результате общий уровень стресса снижается.
- Жажда понимания и познания зла. У жанра есть и познавательный аспект. Многие смотрят такие программы, чтобы понять психологию преступника, мотивы жестоких деяний. True crime часто заглядывает в голову убийцы или афериста, раскрывает их образ мыслей. Для части аудитории это возможность исследовать тёмные стороны человеческой натуры (как писал криминолог Скотт Бонн, серийные убийцы притягивают внимание так же, как крушения или катастрофы – именно потому, что это выходящее за рамки обыденного зло). Культурно мы всегда интересовались таким «неописуемым» – от легенд о Джеке-потрошителе до современных сериалов об маньяках. Таким образом, true crime удовлетворяет познавательную потребность: узнать, как такое могло случиться, что движет людьми, переступающими через мораль.
- Практические мотивы – подготовка и контроль. Любопытно, что примерно четверть поклонников жанра видят в нём утилитарную пользу: они хотят получить советы, как защититься от преступника. Особенную роль это играет для женщин – об этом подробнее в разделе об аудитории. С точки зрения эволюционной психологии, наблюдение за случаями насилия может служить своеобразным «тренингом выживания» – мы изучаем опасные ситуации, чтобы знать, как избежать их в жизни. Конечно, нет гарантии, что просмотр сериала реально подготовит к встрече с маньяком, но многим спокойнее жить, зная, “что делать, если…”. Например, авторы исследований отмечают, что женщины нередко черпают из таких историй правила безопасности: не садиться к незнакомцам, оставлять близким информацию о своём маршруте и т.п. Подобная мотивировка – стремление получить контроль над потенциальной угрозой – тоже подпитывает интерес к true crime.
- Медийные и социальные факторы. Нельзя не учесть и роль современной медиа-среды. Во-первых, доступность контента: стриминги и интернет сделали реальные криминальные истории легко доступными в любом формате – от видео до текста. Алгоритмы рекомендаций часто подсвечивают шок-контент, увеличивая его аудиторию. Во-вторых, культура обсуждения в соцсетях создала сообщество true crime-фанатов, которые вместе обсуждают версии, делятся новостями по делам, обмениваются советами, какие сериалы посмотреть. Это формирует эффект причастности к массовому хобби. В-третьих, сам момент времени: ряд исследователей полагают, что в неспокойные эпохи (социальная нестабильность, пандемия и т.п.) люди тянутся к криминальным сюжетам как к способу осмыслить страхи и восстановить чувство справедливости (ведь в документалках зло зачастую разоблачено или наказано). Таким образом, популярность true crime – результат комплекса причин: биологической реакции на страх, познавательного интереса, ощущения безопасности, предлагаемого медиасредой, и культурной готовности открыто говорить о темных сторонах жизни.
III. Аудитория: кто потребляет true crime и зачем
Основная аудитория true crime – женщины. Исследования и статистика разных стран сходятся на этом факте. Например, опрос CivicScience в 2019 году показал, что 75% любителей подкастов про серийных убийц – женщины. Исследование Edison Research (2024) отмечает, что средний слушатель true crime-подкаста – это женщина 25–34 лет. По данным аналитиков, женщины чаще читают книги о реальных преступлениях и слушают соответствующие подкасты, чем мужчины. В России эта тенденция тоже проявляется: психологи отмечают, что тревожные женщины особенно склонны увлекаться жанром. Почему именно женщины? Считается, что они сильнее опасаются стать жертвой насилия, и потому стремятся с помощью таких историй понять, как ведут себя преступники, чтобы распознать угрозу. Это подтверждается и опросами: 28% поклонников жанра (преимущественно женщин) прямо говорят, что ищут в этих историях советы по самообороне и выживанию. Парадоксальным образом, прослушивание подкастов о маньяках успокаивает многих женщин, уменьшая тревогу – появляется ощущение контроля, ведь «я подготовлена и знаю, на что способны злодеи». Помимо практической стороны, есть и психологический аспект. Эксперты отмечают, что некоторые женщины через такие истории безопасно проживают свои страхи.
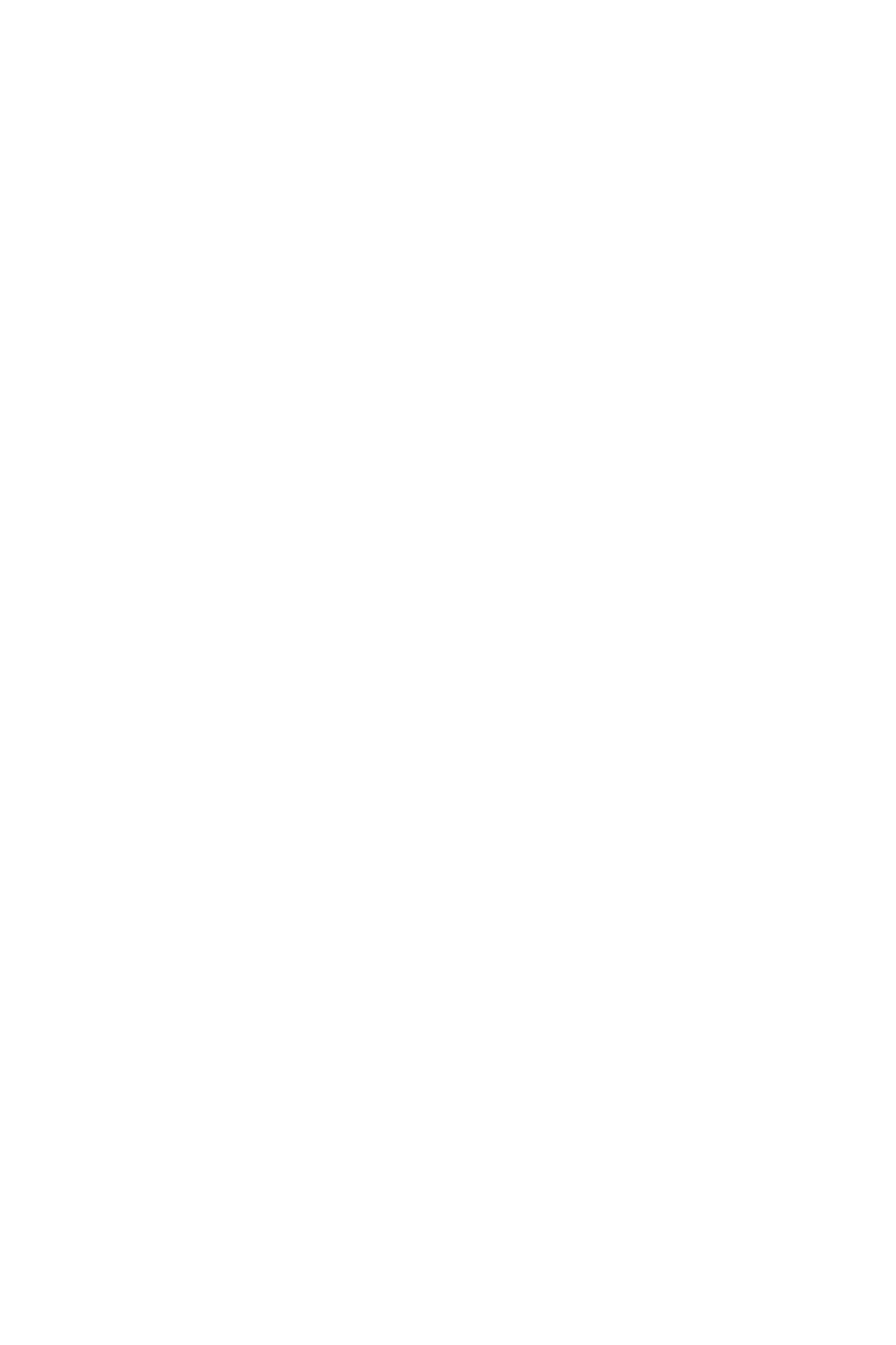
Мужская аудитория тоже присутствует, однако мужчины нередко предпочитают другие криминальные жанры – художественные боевики, триллеры, мафиозные драмы. Тем не менее, немало мужчин следят за реальными расследованиями, особенно если интересуются устройством правосудия или криминалистикой. Например, часть фанатов – это действующие или бывшие правоохранители, криминалисты, которым интересен обмен опытом. Но гендерный дисбаланс в пользу женщин подтверждается не только опросами, но и рыночными данными: многие топовые проекты (особенно подкасты) делают ставку на женскую аудиторию, приглашая ведущих-женщин и обсуждая темы безопасности женщин. Показательно, что жанр true crime тесно переплёлся с сообществом женщин-блогеров: популярны каналы, где девушки рассказывают о преступлениях (часто совмещая это с бьюти-контентом или лайфстайлом), создавая эффект «подруги, которая пересказывает жуткую историю». Эта форма подачи оказалась очень востребована.
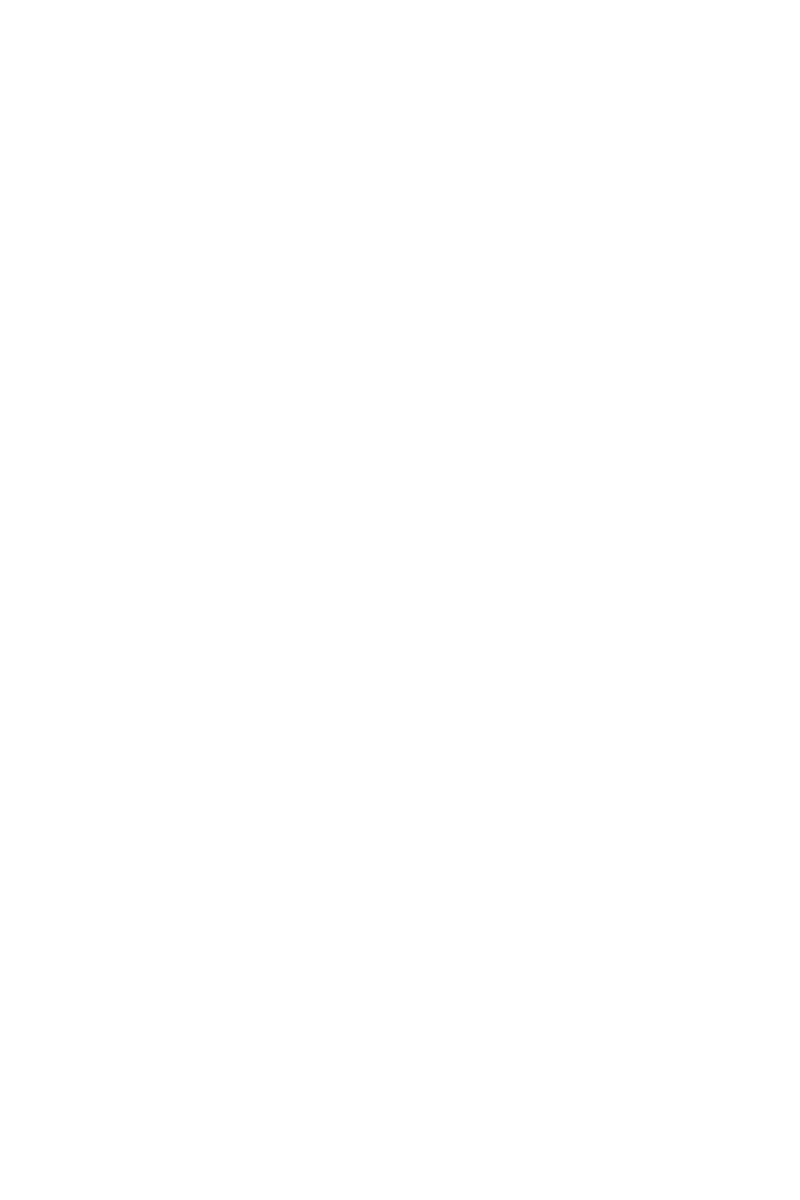
Широкий демографический охват. В целом же аудитория true crime крайне разнообразна по возрасту и социальному положению. Есть подростки, увлекающиеся громкими историями (всплеск интереса у молодежи произошёл, например, после выхода сериала про Джеффри Дамера в 2022 году). Есть люди среднего и старшего возраста, помнящие резонансные дела прошлого и теперь потребляющие о них контент из ностальгического интереса или любопытства. Например, в России программа «Следствие вели…» с Леонидом Каневским обрела неожиданную популярность у подростков – мемы с фразами ведущего гуляют в TikTok. Согласно опросам, 92% активных читателей и слушателей в России регулярно обращаются к историям о реальных преступлениях – то есть жанр востребован практически у всех групп населения.
Мотивация аудитории. Мы уже частично коснулись мотивов: женщины – безопасность, все – любопытство, адреналин, эмпатия. Интересна статистика, что среди поклонников жанра лишь 16% увлекаются им из сочувствия к жертвам, тогда как 80% привлекает процесс расследования и интрига, 75% – психология преступника. То есть для большинства это в первую очередь интеллектуально-эмоциональное развлечение. При этом аудитория осознаёт и проблемные моменты: 44% отмечают, что их раздражает романтизация преступников в ряде шоу, 21% – что часто пренебрегают темой жертв. Эти настроения влияют на то, какой контент будут требовать зрители в будущем. Стоит добавить, что true crime-энтузиасты – очень вовлечённая аудитория. Исследования в США показывают: слушатели профильных подкастов в разы чаще обычных людей готовы сами участвовать в правосудии – например, передавать полиции информацию по делу, подписывать петиции, жертвовать деньги пострадавшим. Иначе говоря, значительная часть аудитории воспринимает себя не пассивными потребителями, а соучастниками: они обсуждают дела на форумах, иногда даже сами пытаются вести расследования в интернете (о феномене любительских сыщиков – в разделе о трендах).
Мотивация аудитории. Мы уже частично коснулись мотивов: женщины – безопасность, все – любопытство, адреналин, эмпатия. Интересна статистика, что среди поклонников жанра лишь 16% увлекаются им из сочувствия к жертвам, тогда как 80% привлекает процесс расследования и интрига, 75% – психология преступника. То есть для большинства это в первую очередь интеллектуально-эмоциональное развлечение. При этом аудитория осознаёт и проблемные моменты: 44% отмечают, что их раздражает романтизация преступников в ряде шоу, 21% – что часто пренебрегают темой жертв. Эти настроения влияют на то, какой контент будут требовать зрители в будущем. Стоит добавить, что true crime-энтузиасты – очень вовлечённая аудитория. Исследования в США показывают: слушатели профильных подкастов в разы чаще обычных людей готовы сами участвовать в правосудии – например, передавать полиции информацию по делу, подписывать петиции, жертвовать деньги пострадавшим. Иначе говоря, значительная часть аудитории воспринимает себя не пассивными потребителями, а соучастниками: они обсуждают дела на форумах, иногда даже сами пытаются вести расследования в интернете (о феномене любительских сыщиков – в разделе о трендах).
IV. Основные форматы: сериалы, подкасты, YouTube-расследования и другие медиа
Телевизионные и стриминговые сериалы. Одним из самых популярных форматов true crime стал документальный сериал. Как правило, это многосерийный фильм, детально разбирающий одно дело или серию преступлений. Сериал может фокусироваться на расследовании (например, «Создавая убийцу» подробно показывает, как адвокаты оспаривают вердикт) или на личности преступника (как «Монстр: Джеффри Дамер» – биографический сериал о серийном убийце). Часто используются хроника, интервью с участниками событий, записи допросов и судов – всё это создаёт эффект присутствия. Стриминговые платформы (Netflix, HBO Max, Hulu и др.) за последнее десятилетие инвестировали огромные средства в такие проекты, поскольку они привлекают большую и лояльную аудиторию. Например, сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix, 2022) набрал 820 миллионов часов просмотра и вошёл в десятку самых популярных шоу Netflix за всю историю. Многие документальные расследования становятся культурными феноменами: «Король тигров» (2020, Netflix) о криминальных разборках владельцев зоопарков или «Руки прочь от котиков!» (2019, Netflix) о коллективной погоне интернет-энтузиастов за убийцей – широко обсуждались в сети и породили волну мемов. К этой же категории можно отнести и кино-документалистику: театральные документальные фильмы о преступлениях. Например, классический фильм Эролла Морриса «Тонкая голубая линия» (1988) не только рассказывал об ошибочном осуждении, но и помог пересмотреть приговор – с тех пор документалистика, меняющая реальность, стала частью легенды жанра.
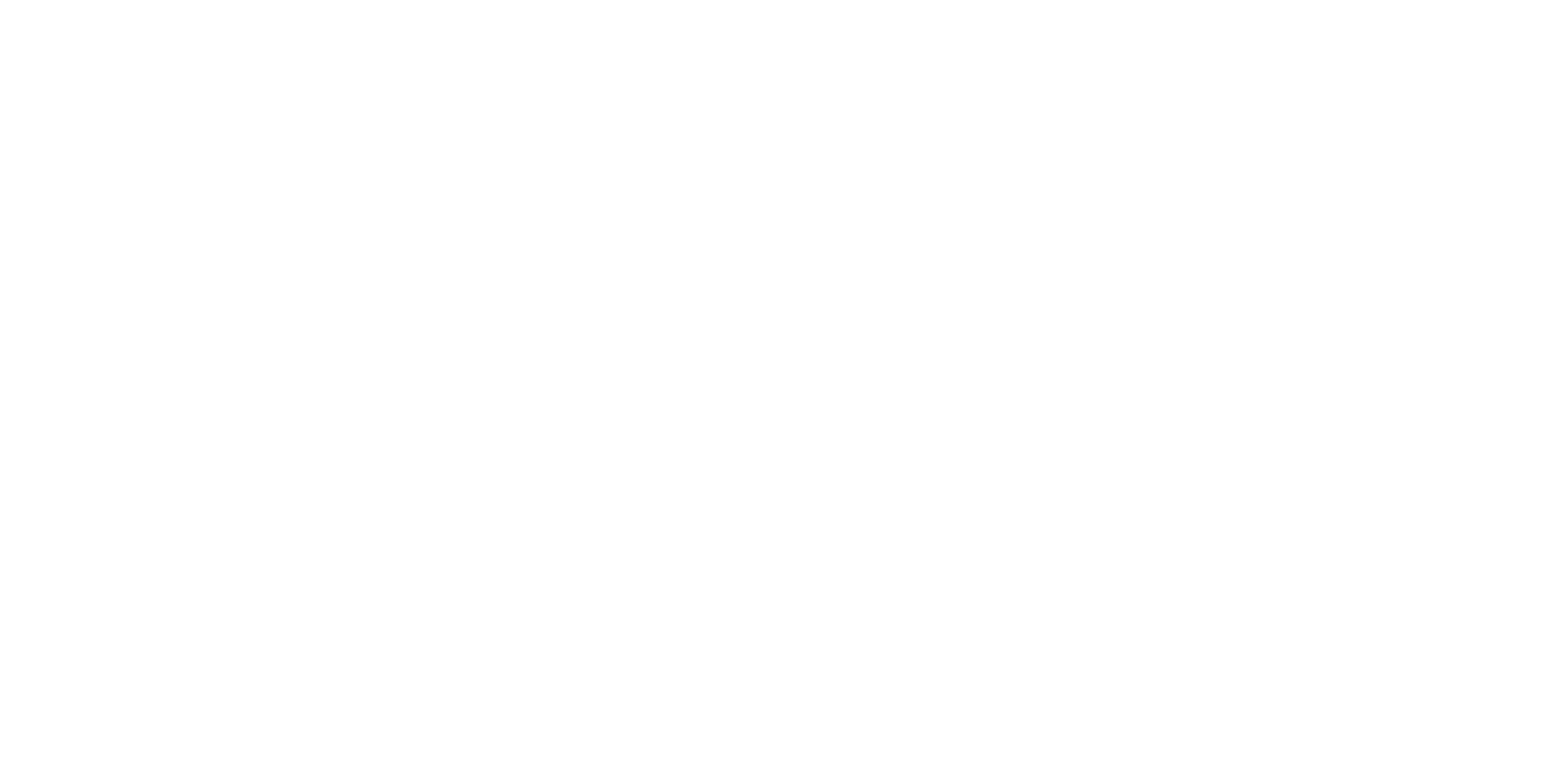
Подкасты. True crime стал одним из самых популярных жанров в подкастинге благодаря особенностям повествования и серийности. Аудио позволяет воссоздавать события с помощью рассказа, музыки, актерского чтения фрагментов протоколов – и вовлекать слушателя, как хороший радиосериал. После успеха Serial (2014) появилось множество подкастов-расследований. Некоторые из них достигли миллионов постоянных слушателей и превратились в медиафраншизы. Так, My Favorite Murder – комедийный дуэт, где ведущие обсуждают преступления – породил живые туры и мерчандайзинг; Criminal с Фиби Джадж – стал эталоном качественного “true crime storytelling”. В русскоязычном пространстве подкасты жанра тоже на подъёме: популярность получили проекты «Дневники Лоры Палны» (еженедельные беседы о серийных убийцах со всего мира), «У холмов есть подкаст» (где брат и сестра смешивают чёрный юмор с обсуждением дел), «Дела» (разбор резонансных кейсов с экспертами) и другие. Преимущество подкастов – в интимности формата: слушатель обычно один на один с голосом рассказчика, что усиливает погружение. Кроме того, порог входа в подкастинг низкий: запустить своё аудио-шоу может независимый автор, нет нужды в большом бюджете. Это привело к разнообразию: кроме профессиональных журналистских расследований, есть множество любительских подкастов, где энтузиасты пересказывают дела или обсуждают новости криминального мира.
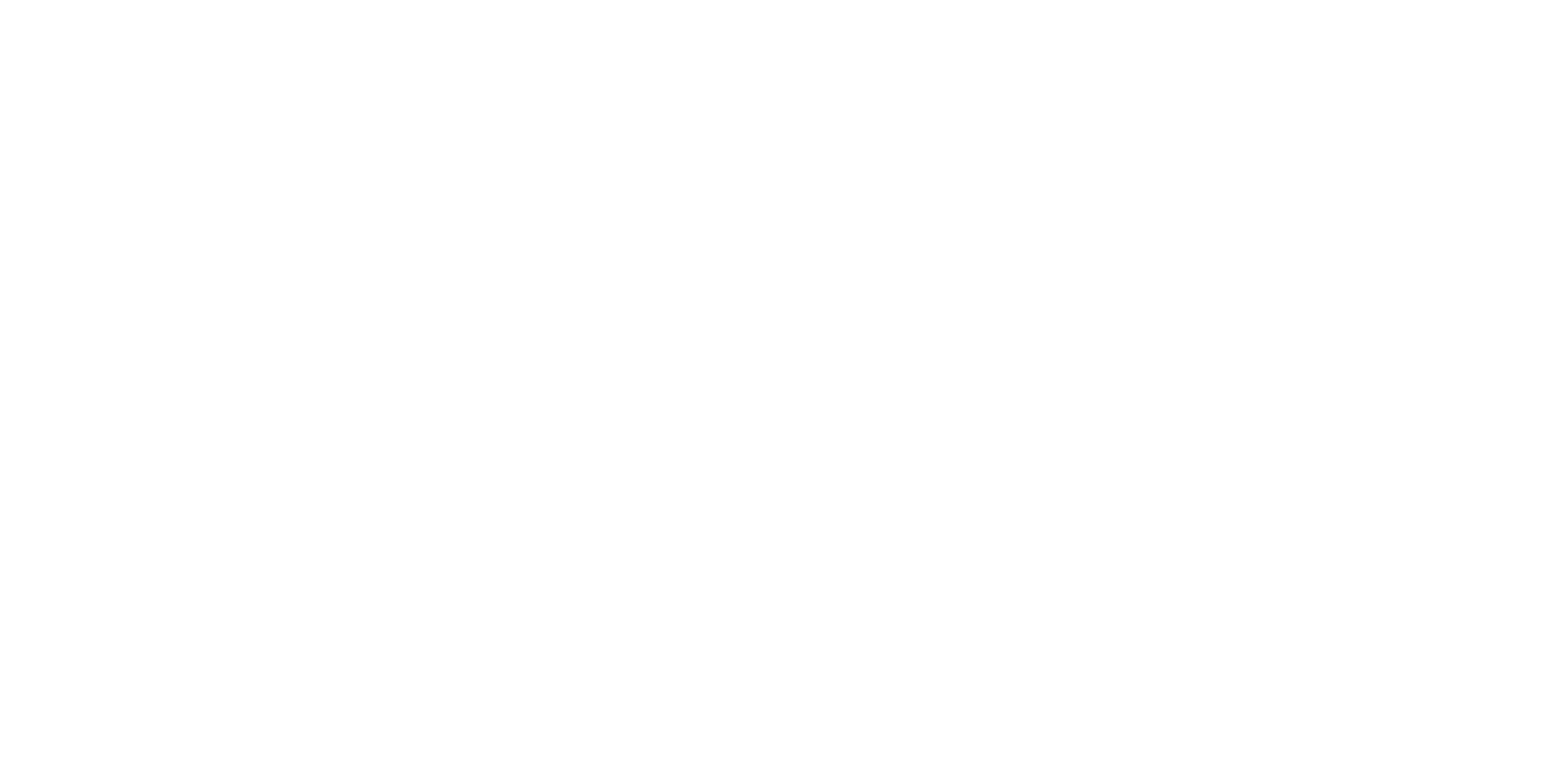
YouTube-каналы и любительские видео. YouTube дал новую жизнь жанру видео-рассказа о преступлениях. Большой популярностью пользуется формат, когда ведущий на камеру (или за кадром, показывая только хронику и фотографии) рассказывает историю преступления от начала до конца. Нередко такие ролики сопровождаются атмосферным саундтреком, визуализацией (карты, схемы) и монтажом. В русскоязычном YouTube сегодня насчитываются десятки каналов true crime. Среди наиболее известных: Faust21century – канал психиатра Василия Бейнаровича, где он анализирует психологию убийц, подробно разбирая биографии маньяков СССР и РФ. «Agatha Christie» – анонимный канал с миллионом подписчиков, известный пугающей подачей и подробным пересказом зарубежных кейсов (например, дело Джонбенет Рэмси). Есть каналы с уклоном в реальные материалы: например, «Неслабо Нервный» публикует фрагменты настоящих допросов с переводом и комментариями, привлекая внимание к деталям следствия. Также популярны форматы подборок (топ-10 громких дел, 5 загадочных исчезновений) и разбора свежих новостей (например, история недавнего громкого преступления). YouTube-true crime вовлекает зрителей в комментариях – бурно обсуждаются версии, появляются коллективные расследовательские инициативы.
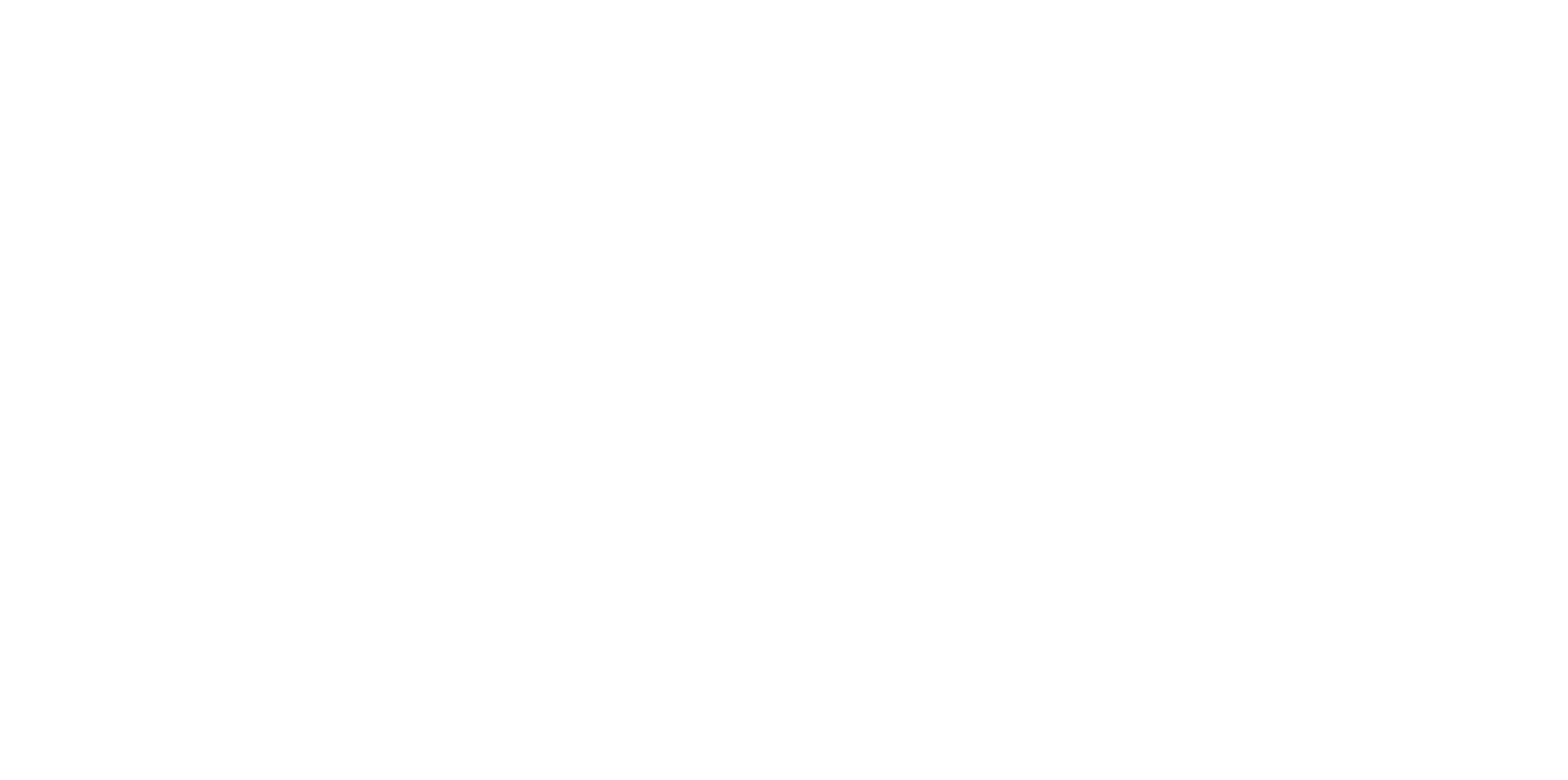
Соцсети и блоги. Короткие форматы тоже не обошли стороной криминальные истории. В TikTok и Instagram можно встретить блогеров, которые в виде минутных роликов рассказывают про «дело дня» или разбирают детали известного убийства. Например, в англоязычном TikTok в 2020–2021 году вирусными стали видео под тегом #TrueCrime, где девушки под музыку кратко излагали сюжеты страшных историй, параллельно занимаясь чем-то будничным (наносили макияж и т.д.) – это породило дискуссию об этичности (о чём ниже). Существуют и текстовые блоги: true crime diary (формат онлайн-дневника расследователя) – пример тому блог Мишель Макнамары, которая так глубоко исследовала серию убийств, что помогла вычислить преступника (убийца из Голден-Стейт). На форумах типа Reddit есть целые разделы (r/TrueCrime, r/UnresolvedMysteries), где сотни тысяч участников совместно разбирают нераскрытые дела, выкладывают документы, строят теории. Появились и специализированные сообщества, например, форум Websleuths.com, объединяющий добровольных детективов со всего света, которые помогают связать неидентифицированные тела с пропавшими людьми или обращают внимание на несостыковки в официальных версиях. Таким образом, сегодня true crime-продуктом может быть и часовой сериал на Netflix, и часовой ролик на YouTube, и короткий пост в соцсети. Жанр проник во все медиаформаты, став неотъемлемой частью поп-культуры.
V. Экономика жанра: монетизация, индустрия и продакшн-модели
Монетизация контента. В жанре true crime задействованы самые разные модели заработка, в зависимости от платформы:
Бурный рост популярности true crime сделал его крупной индустрией в медиа. По оценкам аналитиков, глобальный рынок контента о реальных преступлениях исчисляется миллиардами долларов. Так, только рынок true crime-подкастов прогнозируется в $2,3 млрд к 2025 году. Добавим сюда доходы от сериалов, документальных фильмов, книг, live-мероприятий – станет ясно, что на нашем интересе к маньякам и аферистам сегодня строится прибыльный бизнес.
- Стриминговые сервисы и телеканалы. Для Netflix, HBO, Amazon и других платформ документальные криминальные сериалы стали способом привлечения и удержания подписчиков. Популярный сериал увеличивает время просмотра на сервисе (как упомянутый «Монстр: Дамер», показавший результаты на уровне топ-хитов). Хотя стриминги напрямую не раскрывают доходы по отдельным проектам, понятно, что они готовы платить значительные бюджеты за такие шоу. Например, права на показ известных криминальных документалок могут выкупаться за миллионы долларов. Сами сериалы относительно недороги в производстве по сравнению с игровыми: не нужно оплачивать звёздных актёров или создавать спецэффекты, часто используются архивные материалы. Поэтому ROI (возврат инвестиций) у true crime-контента для платформ высок. Косвенно монетизация идёт и через мерчандайзинг: успешные проекты породили книги, сувениры, тематическую продукцию, продажи которых приносят доход создателям.
- Подкасты. Основной источник дохода для популярных подкастов – реклама и спонсорство. Топовые шоу (с миллионами загрузок в месяц) зарабатывают на вставках рекламы десятки тысяч долларов еженедельно. Кроме того, многие подкасты запускают платные подписки или получают поддержку слушателей через Patreon, Donate и т.д. Популярные ведущие устраивают live-шоу – гастрольные выступления, где они вживую рассказывают новую историю или обсуждают старые, продавая билеты фанатам. Например, подкаст My Favorite Murder регулярно организует туры и собирает аудитории в театрах, превращая аудиоформат в шоу на сцене. Некоторые удачные подкасты приобретаются крупными медиакомпаниями: так, проект «Дела» в России был выкуплен VK (Mail.ru Group) для эксклюзивного размещения. Это иллюстрирует тренд: большие игроки готовы инвестировать в аудиоконтент с уже раскрученной аудиторией.
- YouTube и соцсети. Для индивидуальных создателей контента основная модель – рекламная монетизация (YouTube платит долю от рекламных показов). Популярные true crime-каналы с сотнями тысяч подписчиков могут получать ощутимый доход от рекламы, особенно при длинных роликах (а формат часто длится 30–60 минут, что увеличивает количество рекламных вставок). Кроме того, блогеры нередко привлекают спонсоров – интегрируют в свои видео рекламу различных сервисов, книг, приложений и прочего. Вокруг некоторых каналов складывается коммьюнити, которое поддерживает авторов донатами. Наконец, возможна продажа мерча: футболок, кружек с цитатами ведущего или названиями известных дел.
- Книги и печать. Литература в жанре true crime по-прежнему продаётся миллионными тиражами. Бестселлеры о громких преступлениях (например, книга о Маньяке с Битцевского парка в России или об убийстве Вероники в Италии) приносят прибыль издательствам. Издательство «Белье Летр» в РФ отмечает всплеск спроса на переводные и отечественные документальные книги о преступлениях. Интересно, что 49% читателей считают, что преступникам «нужно давать право голоса» на страницах книг – им важно понять их мотивацию. Тем не менее, выпускающие редакторы всё чаще задумываются об этике подачи, понимая, что от этого тоже зависит коммерческий успех – современный читатель ценит ответственное отношение к жертвам.
Производственные модели. В создании true crime-контента участвуют как крупные студии, так и независимые авторы. Интересно, что жанр размывает границы между профессиональной журналистикой и любительским расследованием. С одной стороны, есть солидные проекты: документальные фильмы снимают опытные режиссёры, расследования ведут журналисты-расследователи с доступом к редким материалам. С другой – некоторые громкие истории раскрывались и рассказывались именно энтузиастами. Например, случай Луки Маньотты (убийца, история которого легла в основу «Охота на интернет-убийцу») – изначально группа интернет-пользователей собрала улики и настойчиво передавала их полиции. Такого рода краудсорсинг расследования стал новой моделью: тысячи добровольцев могут анализировать открытые данные, помогая официальному следствию.
В плане бизнес-моделей заметен тренд консолидации: крупные медиахолдинги создают подразделения, специализирующиеся на true crime.
В США появились целые платформы (например, Crime+Investigation на телевидении, стриминговый сервис Discovery+ выделяет отдельную линейку контента о преступлениях). В России пока специализированных платформ нет, но большие студии («Первый канал», Okko, IVI) тоже выпускают свои документальные расследования, пытаясь не отстать от тренда.
Отдельно стоит упомянуть этичные ограничения монетизации. В ряде стран существуют законы, запрещающие преступникам получать доход от продажи прав на историю преступления («закон Сына Сэма» в США) – то есть убийца не может заработать на книге о своих злодеяниях. Однако создатели контента (журналисты, писатели, режиссёры) не скованы такими ограничениями и извлекают прибыль, что вызывает вопросы морали (подробнее в разделе 8). Но в целом экономическая модель жанра строится на простой формуле: низкие производственные затраты + высокий интерес аудитории = выгодный контент. Это и предопределило его проникновение на все платформы.
В плане бизнес-моделей заметен тренд консолидации: крупные медиахолдинги создают подразделения, специализирующиеся на true crime.
В США появились целые платформы (например, Crime+Investigation на телевидении, стриминговый сервис Discovery+ выделяет отдельную линейку контента о преступлениях). В России пока специализированных платформ нет, но большие студии («Первый канал», Okko, IVI) тоже выпускают свои документальные расследования, пытаясь не отстать от тренда.
Отдельно стоит упомянуть этичные ограничения монетизации. В ряде стран существуют законы, запрещающие преступникам получать доход от продажи прав на историю преступления («закон Сына Сэма» в США) – то есть убийца не может заработать на книге о своих злодеяниях. Однако создатели контента (журналисты, писатели, режиссёры) не скованы такими ограничениями и извлекают прибыль, что вызывает вопросы морали (подробнее в разделе 8). Но в целом экономическая модель жанра строится на простой формуле: низкие производственные затраты + высокий интерес аудитории = выгодный контент. Это и предопределило его проникновение на все платформы.
VI. Текущие тренды: новые форматы и актуальные темы
Жанр true crime не стоит на месте – помимо привычных приёмов, в последнее время набирают популярность новые подходы к подаче материала. Рассмотрим несколько заметных трендов.
Slow True Crime («медленное расследование»). Если ранее документальные фильмы часто пытались уместить дело в 1–2 часа, то сейчас ценится долгое, обстоятельное повествование. Идея созвучна движению slow journalism: не гнаться за сиюминутной сенсацией, а глубоко вникать в детали. Примеры – уже упомянутый подкаст Serial, разбиравший одно дело целым сезоном из 12 выпусков, или сериал Netflix «The Keepers», где расследование длится многие годы. Такие проекты вовлекают зрителя постепенно, погружая его во все нюансы – свидетельства, альтернативные версии, личные истории участников. Аудитория готова к долгому погружению: по опросам, 89% слушателей подкастов хотя бы раз запоем прослушивали true crime-сериалы. Более того, некоторым по душе именно затянутость: обсуждается феномен «усыпляющих» криминальных подкастов – люди ставят себе на ночь монотонный разбор убийства, чтобы уснуть, как это ни парадоксально. В ответ появилось понятие «True crime для сна» – медленные, почти ASMR-рассказы о делах. Разумеется, это нишевое явление, но оно отражает общий тренд на размеренное, детальное повествование, противоположное клиповому монтажу.
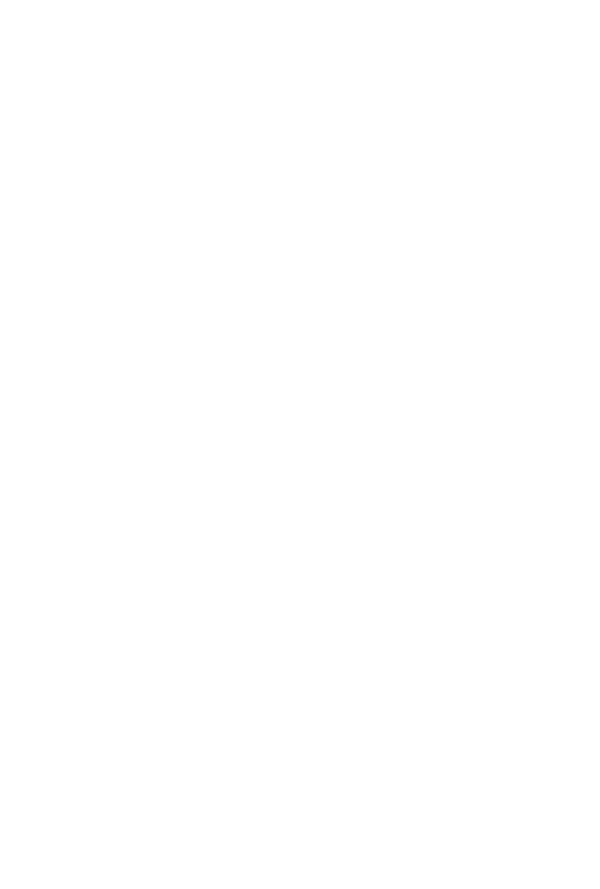
Amateur investigation (любительские расследования). ХХI век привёл зрителя прямо на место сыщика. Вокруг многих громких дел образуются онлайн-сообщества, которые ведут параллельные расследования, делясь находками. Иногда это помогает – например, сообщество Reddit сыграло роль в разгадке некоторых личностей преступников, а форум Websleuths помогал идентифицировать неизвестных жертв. С другой стороны, дилетанты могут и навредить: известен случай, когда после теракта в Бостоне 2013 г. пользователи Reddit ошибочно «вычислили» подозреваемого, и невиновный человек подвергся травле. Тем не менее, тренд таков, что документалисты всё чаще вовлекают интернет-активистов в сюжет. Сериал «Руки прочь от котиков!» показывает работу группы Facebook, выслеживающей преступника. В России громкое дело – исчезновение подростка Влада Бахова – расследовалось не только полицией, но и блогерами на YouTube (канал «По следу» выпустил ролики с разбором, собравшие сотни тысяч просмотров). Появление «диванных детективов» – естественное следствие вовлечённости аудитории. Сейчас это переходит на новый уровень: делаются интерактивные проекты, где зрителям предлагается помочь расследованию, например, разгадать шифры маньяка или просмотреть массив открытых данных в поисках улик. Таким образом, граница между «рассказом о преступлении» и краудсорсинговым расследованием размывается.
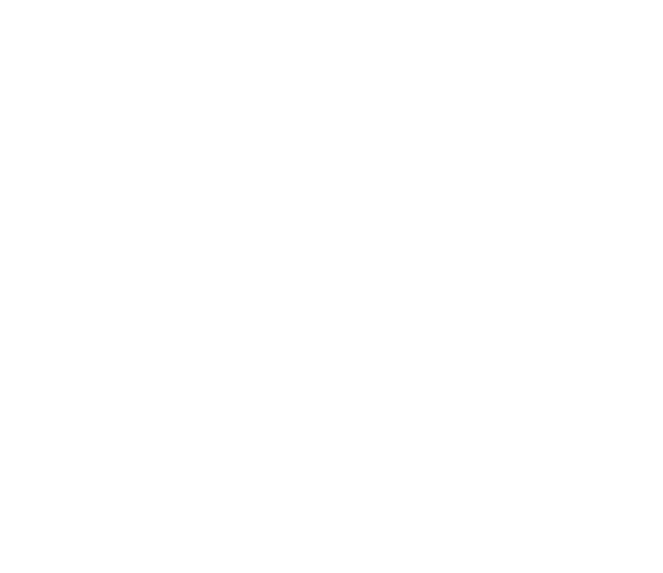
POV-журналистика и персонализация. Традиционный документальный подход – объективный рассказ от третьего лица – потеснила манера повествования от первого лица. В подкастах это практически норма: ведущий лично едет, встречается с людьми, делится своими эмоциями, сомнениями. Пример – популярный подкаст «Up and Vanished», где журналист Пен Линдси документировал, как он сам пытается раскрыть холодное дело; в итоге его подкаст помог арестовать подозреваемого. В YouTube подобное тоже встречается: журналисты вроде Саши Сулим не скрывают своего участия, берут интервью, появляясь в кадре, едут на места событий. Такой POV-подход (point-of-view) делает повествование более человечным, а журналиста – персонажем истории. Зритель переживает путь расследователя, с его точки зрения оценивает улики. В видеодокументалистике это смыкается с форматом «true crime-влога», когда автор словно блогер, рассказывает: «Мы приехали в заброшенный дом, где произошло убийство… вот что я чувствую…». Персонализация повышает доверие и эмпатию, хотя некоторые критики отмечают, что это отвлекает от фактов – мол, вместо фокуса на событии фокус на авторе. Тем не менее, тенденция налицо: многие новые проекты строятся вокруг яркой личности ведущего, будь то журналист-расследователь, психиатр или даже родственник жертвы, ведущий собственное «расследование для души».
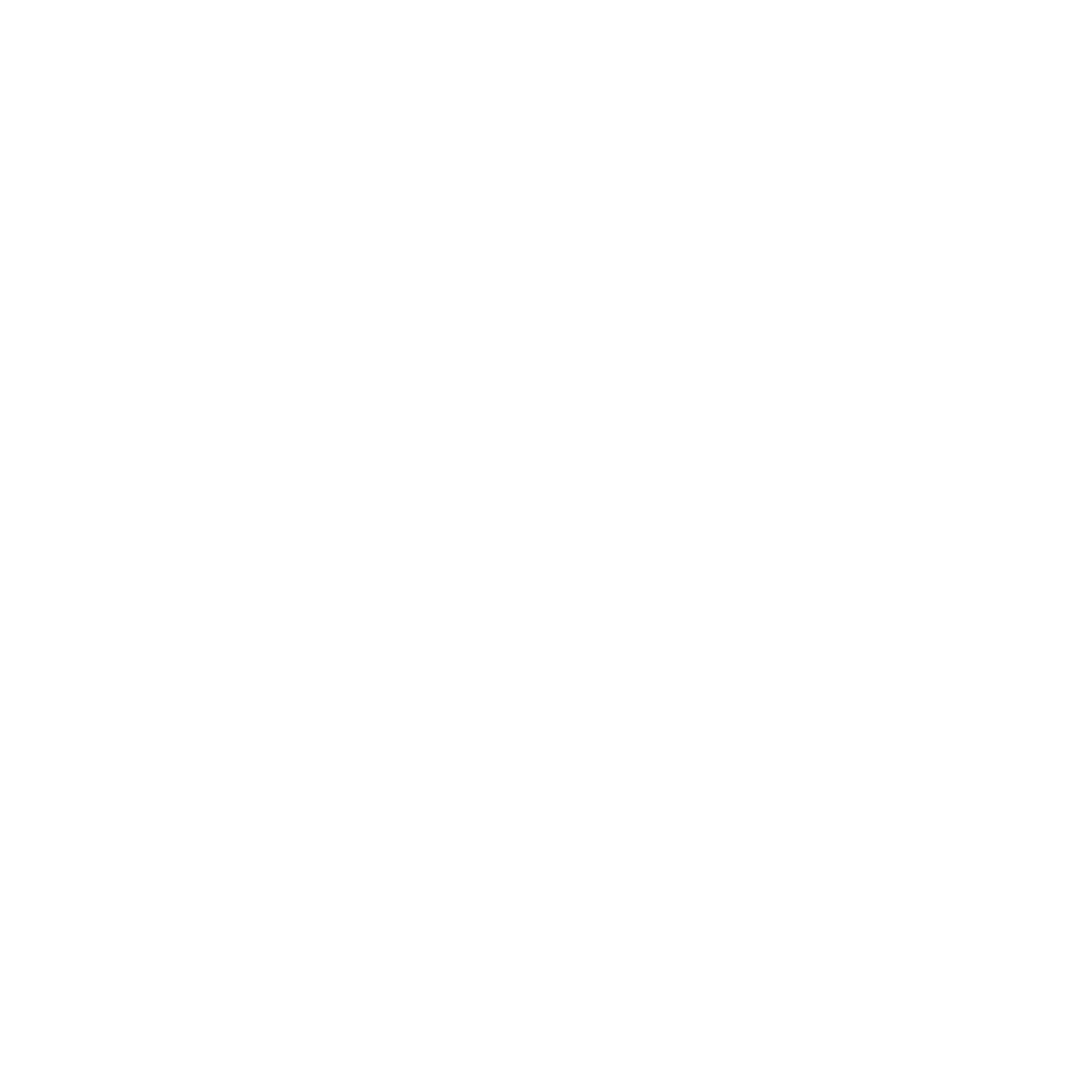
Виртуальное участие и новые технологии. Современные технологии тоже проникают в жанр. Так, VR-документалки позволяют очутиться на месте преступления в формате 360-градусного видео. В интерактивных играх и приложениях пользователю предлагают самому пройти путь следователя (например, мобильные игры-расследования с реальными делами). AI и большие данные помогают обрабатывать массивы информации – например, некоторые любительские сообщества используют программный анализ для сопоставления пропавших без вести и неопознанных тел, ускоряя ручной труд. Пока что это скорее эксперименты, но они могут стать новым словом в true crime: когда истории будут не только рассказываться, но и проживаться аудиторией с помощью технологий.
Темы за пределами убийств. Классический true crime ассоциируется с убийствами (и правда ~40% жанра посвящено серийным убийцам). Но в последние годы расширяется спектр тематик. Большой интерес вызывают финансовые преступления и аферы – пример успеха документалки «Аферист из Tinder», «Inventing Anna» (игровой сериал, основанный на реальной мошеннице). Темы сект и культов – тоже на подъёме (док.сериал «Дикий-дикий Край» про культ Раджниша, подкасты о сектах). Преступления против животных, экологические преступления (браконьерство, экологический терроризм) – находят свою нишу, особенно когда преподносятся как детективы. Исторический true crime выделился в отдельное направление: расследования загадочных преступлений прошлых веков (например, подкасты о Викторианской эпохе или сериалы о гангстерах 1930-х). Тем самым жанр охватывает более широкий культурный контекст: зрителю интересны не только кровавые детали, но и «поймать за руку» зло в любых сферах – будь то убийство или изощренное мошенничество.
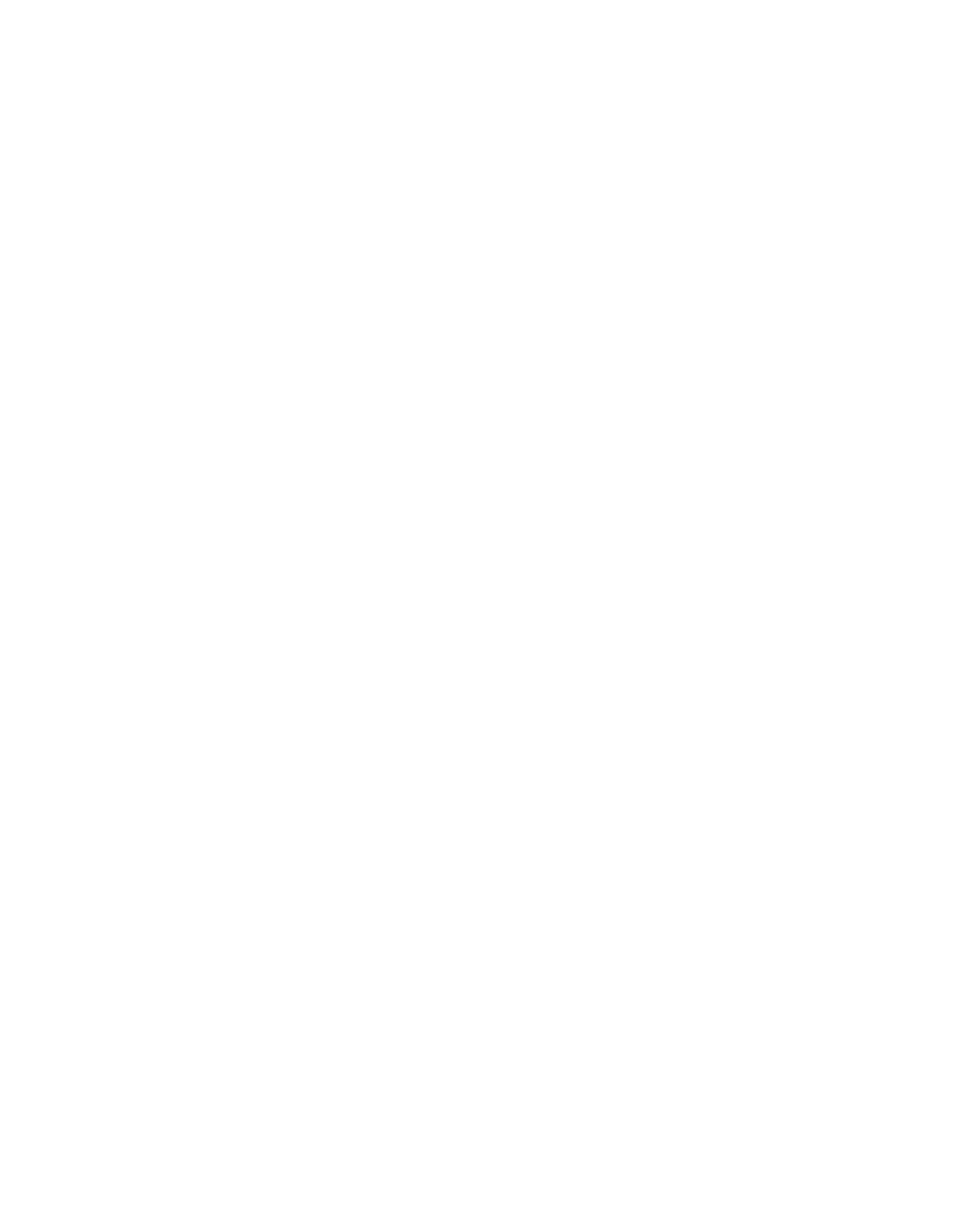
Комедийный и творческий подход. Любопытный тренд – смешение true crime с юмором и другими жанрами. Уже упоминались комедийные подкасты (в России «У холмов есть подкаст» заявлен как true crime comedy). В англоязычном мире есть стендаперы, делающие целые номера на тему одержимости сериалами про убийц. Появляются художественные произведения, отсылающие к жанру: например, сериал «Only Murders in the Building» (США) – комедийный детектив о трёх поклонниках true crime-подкастов, которые расследуют убийство. Таким образом, в феномен проникает самоирония. Ещё один творческий поворот – кросс-медиа проекты: когда история рассказывается сразу в книге, подкасте и сериале (так было, например, с историей убийства Ди Ди Бланчард: сначала журналистское расследование, затем документальный фильм, затем игровой сериал «Притворство»). Всё это говорит о зрелости жанра: он стал настолько массовым, что обретает поджанры, пародии и межжанровые гибриды.
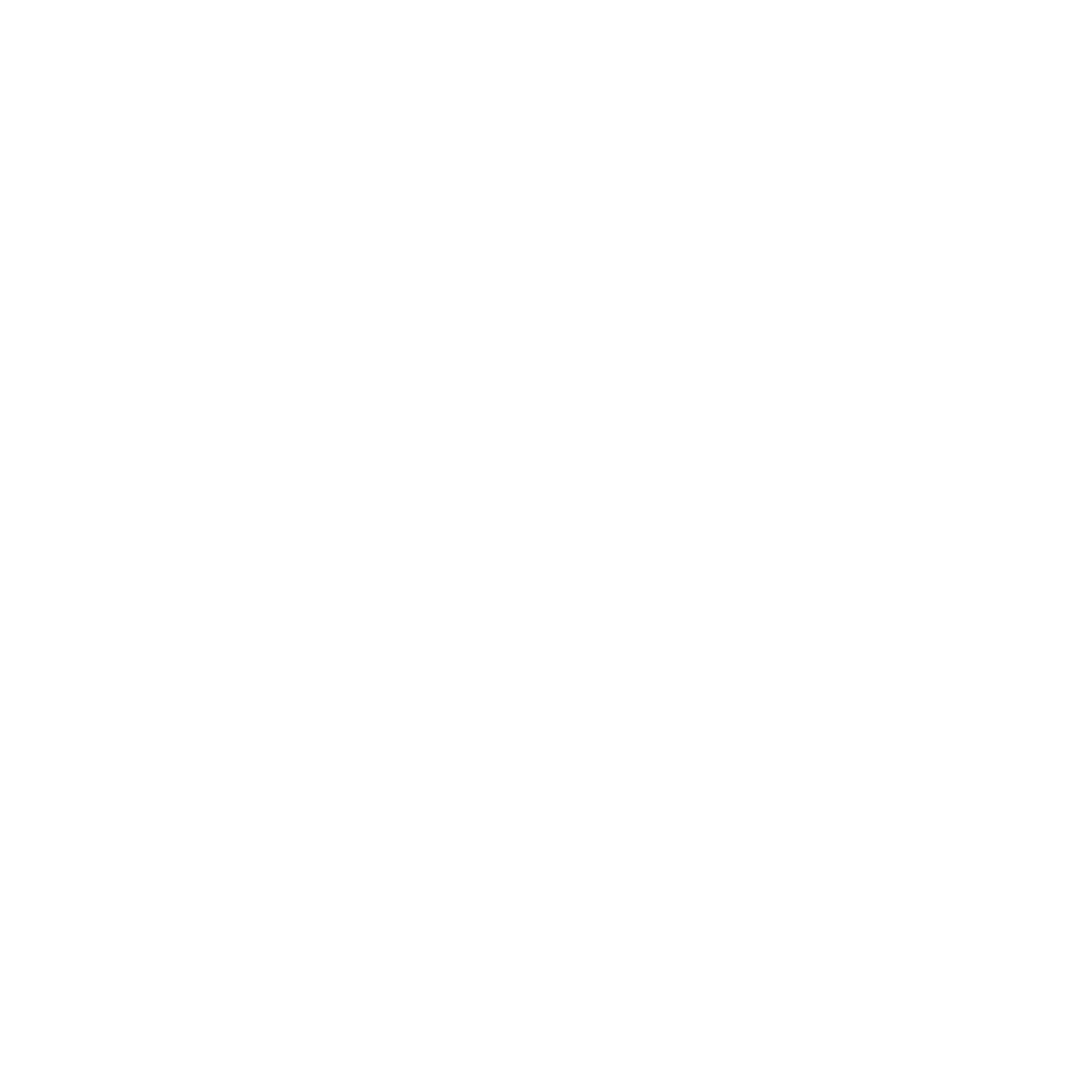
VII. Российский контекст: локальные проекты и специфика аудитории
В России жанр true crime имеет свою историю и особенности развития. Можно выделить несколько этапов:
Советский период – дефицит информации. В СССР информация о серийных убийцах и маньяках, как правило, скрывалась от публики, поэтому широко известным стал, пожалуй, только случай Андрея Чикатило под занавес советской эпохи (и то подробности раскрылись уже после ареста). Тем не менее, интерес к криминальным историям жил в народе – это проявлялось в городских легендах, слухах. Известно, что в 1980-е ходили страшилки про «маньяка в метро», «охотника на невест» и т.п., хотя официально пресса об этом молчала.
Лихие 90-е – всплеск криминальной хроники. С распадом СССР в1990-е в СМИ хлынул поток криминальных новостей. Это было вызвано и реальным ростом преступности в ту эпоху, и голодом аудитории до ранее запретных тем. Криминальная хроника стала одним из самых популярных жанров печати: выходили газеты и журналы, подробно описывавшие преступления, нередко смакуя детали. Например, еженедельник «Криминал», начиная с 1997 года, публиковал истории о маньяках и грабителях, его тиражи росли. Телевидение тоже подхватило тренд: именно в 90-е возникла легендарная передача «Криминальная Россия». Она представляла собой серию документальных фильмов, реконструирующих громкие уголовные дела – ограбления, убийства, разборки бандитов. «Криминальная Россия» шла по разным каналам с 1995 по 2014 год и стала культовой для поколения 90-х. Ведущие с экрана говорили то, что раньше не принято было говорить: маньяки существуют, вот их истории. Эти программы, правда, часто грешили чрезмерно натуралистичными сценами, за что их и критиковали.
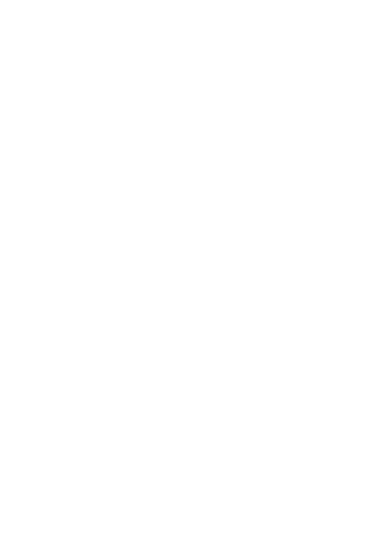
2000-е – появление «звёзд» жанра. Самым известным лицом отечественного true crime безусловно стал актёр Леонид Каневский, ведущий передачи «Следствие вели…». Этот проект стартовал в 2006 году на НТВ и идёт до сих пор, т.е. более 17 лет. В каждом выпуске Каневский рассказывает о резонансном преступлении советских лет – от имени «следователя» он ведёт зрителя по делу, перемещаясь по стилизованным декорациям, комментируя кадры хроники. Его фирменная фраза «Но это уже совсем другая история…» стала мемом среди молодёжи. Популярность «Следствие вели» объясняется совмещением ностальгии по советскому прошлому (зрителю показывают быт эпохи, советские улицы и стилизованные локации) и острого сюжета про преступление. Фактически Каневский создал образ эдакого мастера рассказа о маньяках, которому веришь. Интересно, что сегодня его передачу открыла для себя новая аудитория – тинейджеры: фрагменты со «Следствие вели» расходятся в соцсетях, п сами создатели программы отмечают наплыв юных фанатов. Можно сказать, что Каневский – это российский «голос true crime».
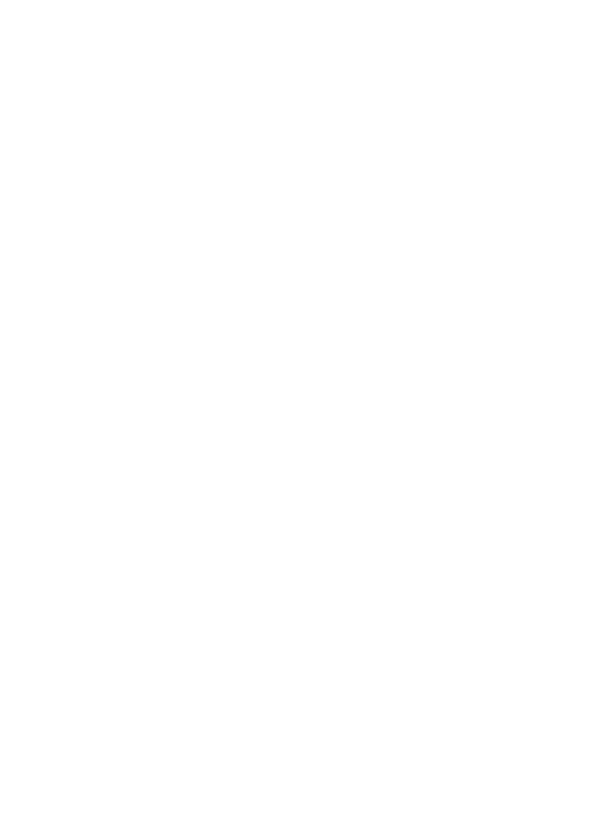
2010-е – цифровой рывок. С развитием интернета Россия, как и весь мир, вошла в новую фазу. Появились русскоязычные подкасты и YouTube-каналы на криминальные темы. Особенность в том, что до середины 2010-х локального контента было мало – многие интересующиеся слушали и смотрели англоязычные источники (кому позволял язык). Но постепенно энтузиасты начали делать своё. Пионерами стали проекты вроде «Дневники Лоры Палны» (старт в 2020 г.), «Если бы да кабы» – они задали планку качества в подкастах, с хорошей журналистикой и начиткой. Затем пришли медийные фигуры: журналистка «Медузы» Саша Сулим создала подкаст «Дела», где разбирала дела российских серийных убийц, общалась со следователями. Этот подкаст быстро вырос в топ, и как уже упоминалось, его выкупили для платформы – сначала ЛитРес, потом VK. После выхода Сулим оттуда эстафету ведущего принял психиатр В.Бейнарович (Faust21), то есть проект получил «второе дыхание». Саша Сулим же переключилась на YouTube, открыв одноимённый канал – и её дебютные выпуски собрали миллионы просмотров. Таким образом, российский true crime вышел в онлайн-пространство с профессиональным подходом, а не только в формате любительских страшилок.
YouTube-волна последних лет. В 2020–2023 гг. в русскоязычном YouTube оформилось сообщество крупных true crime-каналов. Помимо упомянутых Сулим и Faust21 (оба более 300–500 тыс. подписчиков), взлетели: «во мгле» (канал об таинственных нераскрытых делах, в том числе зарубежных, ~150 тыс. подписчиков); «Неразгаданные тайны» (канал с часовыми роликами, знаменит интересом к делам с сексуальным насилием – авторы сами отметили, что видео с упоминанием таких деталей набирают больше миллиона просмотров); «ПО СЛЕДУ» (406 тыс. подписчиков, специализация – преступления в России и СНГ, часто нераскрытые исчезновения). Есть и развлекательные миксы – например, «мистика» (1,18 млн подписчиков), где рассказывают страшные истории без цели напугать, а скорее разобраться. То есть контент дифференцировался: кто-то делает упор на психологический анализ (психиатр Faust), кто-то на раскрытие дела, кто-то на атмосферу и «хоррор».
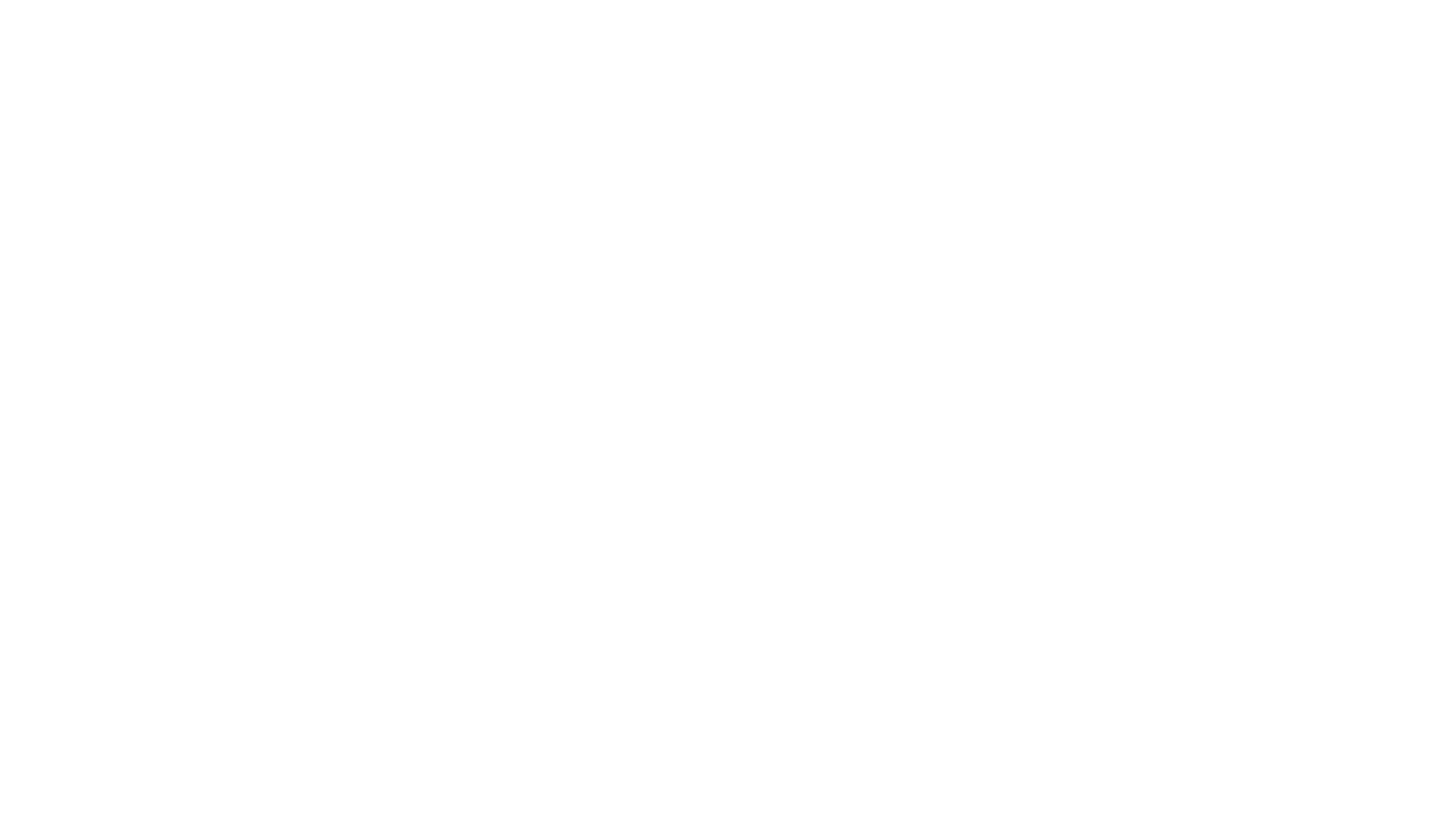
Специфика российской аудитории. Судя по опросам, интерес к жанру в РФ столь же высок, как на Западе: 92% опрошенных читают/смотрят true crime-контент. Причины интереса тоже похожи – интрига, желание понять мотив, адреналин, и сравнительно низкий процент эмпатии к жертвам. Вместе с тем, есть нюансы. Российская история полна своих криминальных сюжетов (серийные маньяки советских времён, банды 90-х, громкие убийства бизнесменов и политиков), и местная аудитория проявляет к ним особое внимание. Успех программы Каневского во многом обязан ностальгии, а молодым любопытно, «как жили в СССР и что там были за преступления». Также в России явно прослеживается гендерный дисбаланс аудитории: женская часть очень активна (многие проекты ведут женщины для женщин), тогда как мужчины чаще интересуются криминалом через призму «бандитского фольклора» (фильмы, сериалы типа «Бригада»). Однако общие тренды – например, увлечённость «женским опытом» – находят отклик: в 2023 г. издатели отмечали, что женщины-читательницы чаще выбирают книги, где жертвами являются женщины, и ищут там практические советы. Российская аудитория тоже начинает задаваться вопросами этики: 41% обеспокоены романтизацией преступников, 20% считают это аморальным. В целом, отечественные поклонники true crime больше похожи на западных: они требуют качественного, захватывающего, но уважительного контента о реальных преступлениях.
VIII. Этические и юридические вопросы: дискуссии вокруг жанра
Вместе с растущей популярностью true crime растёт и критика, связанная с моральными дилеммами. Индустрия всё чаще задаётся вопросом: где грань между расследованием и развлечением, допустимо ли превращать трагедии реальных людей в шоу.
«Преступление как развлечение». Одна из главных претензий – нормализация насилия в глазах зрителя. Критики говорят об «эффекте эмоционального туризма»: когда чужая боль используется для острых ощущений публики. Увлекаясь захватывающим сюжетом, люди могут забывать, что речь идёт о реальных жертвах. Некоторые произведения жанра искажают факты или преувеличивают драму ради эффектности, и это ведёт к восприятию убийства не как ужасающего акта, а как увлекательного представления. Психологи предупреждают: регулярное потребление такого контента может притупить эмпатию – зритель привыкает к виду крови и страдания и начинает относиться к ним равнодушно. Не случайно 22% опрошенных признаются, что воспринимают true crime чисто как жанровое развлечение. В ответ на эти опасения ответственные создатели пытаются напоминать аудитории о реальности происходящего, балансировать сенсационность фактами и уважением.
Эксплуатация жертв и их семей. Самый болезненный вопрос: насколько этично использовать чужое горе для заработка. True crime-шоу почти всегда затрагивают семьи погибших, выживших жертв или тех, кого несправедливо обвинили. Нередко эти люди не хотят вновь погружаться в травму. Бывают случаи, когда журналисты или авторы докфильмов досаждают жертвам – упорно добиваются интервью, не принимая отказ. Это может мешать людям восстанавливаться после трагедии и наносить вторичную травму. Ещё хуже, когда история рассказывается без согласия непосредственных участников – нарушается их право на частную жизнь. Нашумевший пример – ситуация с сериалом Netflix о Джеффри Дамере: семьи нескольких убитых Дамером мужчин заявили, что их никто не предупредил о выходе сериала, они узнали о нём постфактум и были шокированы столь реалистичным воспроизведением своих личных трагедий. В России подобные скандалы тоже случались. Например, в 2021 г. телеведущая Ксения Собчак выпустила интервью с освободившимся «скопинским маньяком» (насильником несовершеннолетних) – ради сенсации ему дали высказаться на весь интернет. Это вызвало волну возмущения: общество посчитало, что Собчак превратила преступника в медийного героя, попирая чувства пострадавших девушек. Президент фонда помощи жертвам насилия Анна Межова отметила, что подобные интервью могут стать триггером для психически нездоровых людей: увидев преступника в центре внимания, они тоже могут захотеть славы через злодеяние. Этот случай дошёл до законодательных кругов – депутаты даже предлагали запретить интервью с убийцами на ТВ, чтобы не романтизировать их. Закон в итоге не приняли, но сама инициатива отражает остроту проблемы.
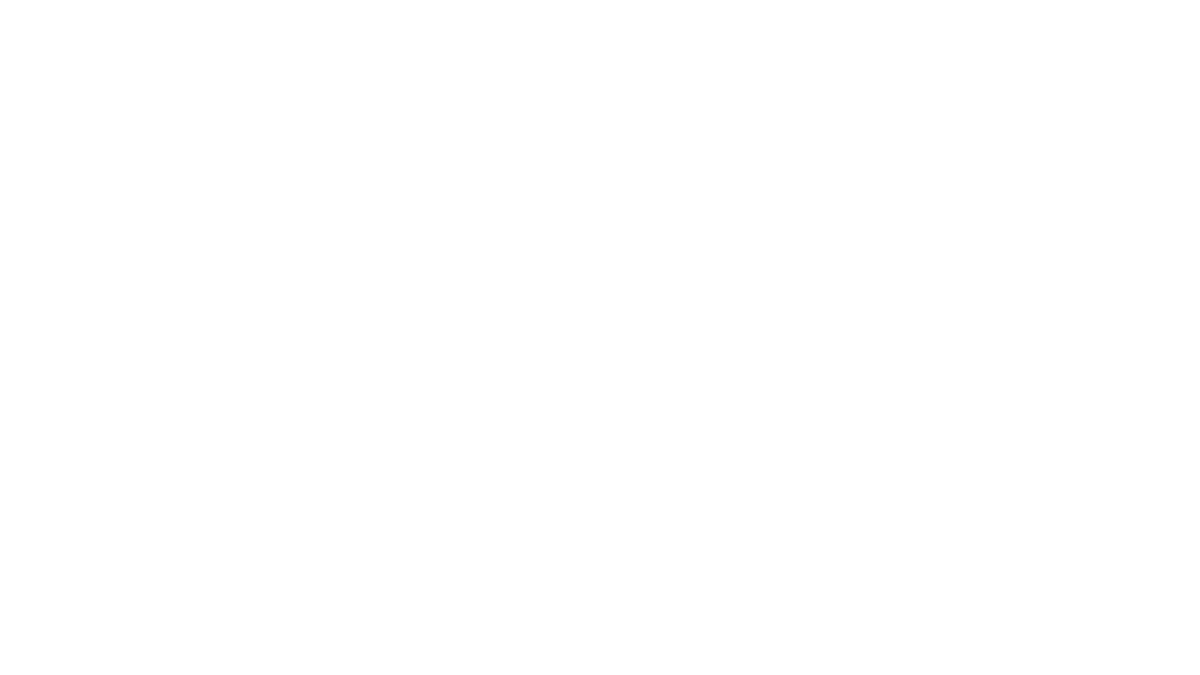
Романтизация и культ преступников. Связанная тема – изображение убийц как чуть ли не поп-звёзд. Когда зрители начинают восхищаться харизмой маньяка из сериала, сочувствовать ему больше, чем жертвам – с этикой явно что-то не так. Эксперты отмечают: опасность романтизации есть всегда, если убийца подан однобоко, например как жертва обстоятельств или носитель «демонического обаяния». Молодая аудитория особенно уязвима к этому – в США не раз отмечали случаи, когда после выхода фильмов про Теда Банди или Чарльза Мэнсона у тех появлялись фан-клубы девочек-подростков. И даже сейчас известные преступники получают мешки писем с признаниями в любви. Создатели контента пытаются бороться с этим эффектом: давать балансированный образ (показывать и зло, и последствия, не забывать о жертвах). В том же сериале про Дамера сценаристы специально сфокусировались на историях его жертв, а не только на нём, – чтобы зрители чувствовали трагедию, а не интересовались лишь персоной убийцы. В печатных изданиях тоже рекомендуют больше рассказывать о несостоявшихся жизнях жертв, чем о личности злодея. Тем не менее, проблема сохраняется: 61% опрошенных россиян замечают романтизацию зла как тревожное или прямо аморальное явление. Сам жанр исторически был склонен к этому: например, Трумен Капоте настолько сблизился с убийцей Перри Смитом, что признавался в симпатии к нему. Так что создателям приходится осознанно выправлять тон повествования.
Искажение восприятия преступности и правосудия. Смотрящим true crime стоит помнить, что они видят отобранные случаи – в основном самые громкие и жестокие. Это может создавать ложное впечатление, будто вокруг сплошные убийцы. Психологи называют это «эффектом увеличительного стекла»: зрителю кажется, что преступность очень высока, хотя статистически тяжкие преступления редки. Особенно если человек смотрит такой контент постоянно, у него может развиться избыточная подозрительность, тревога, вплоть до страха выходить вечером (такие симптомы действительно наблюдаются – психологи советуют в этом случае снизить дозу жанра). Ещё один момент – искажённое представление о работе полиции и судов. Документалисты ради драматизма иногда упрощают или драматизируют процедуры, что зритель потом принимает за чистую монету. Например, реальное следствие может длиться годами, быть рутинным, с бюрократией, а фильм покажет за 1 час хитроумный пазл с разгадкой – в итоге у аудитории завышенные ожидания от правоохранителей или неверие в систему (когда показывают только случаи судебных ошибок, зритель начинает думать, что правосудию нельзя доверять вообще). Это тоже часть этической ответственности: не вводить людей в заблуждение насчёт того, как устроена судебная система.
Правовые аспекты. В правовом поле главный вопрос – право на частную жизнь и защита достоинства участников событий. Пока дело не дошло до суда, существуют презумпция невиновности, ограничения на разглашение материалов следствия – документалистам приходится балансировать, чтобы не помешать реальному правосудию. Если расследование любительское, есть риск навредить – вплоть до обвинения невиновного в публичном пространстве (что чревато исками о клевете). В вышеприведённом случае с Reddit и бостонским терактом семья ошибочно названного «подозреваемого» вполне могла подать в суд на инициаторов травли. Кроме того, возникают вопросы авторских прав – например, на использование видео из новостей, фотографий жертв и преступников (некоторые из них защищены, особенно если фото сделаны профессиональными фотобанками). Зачастую энтузиасты в блогах используют материалы без разрешения, что тоже нарушает закон. С ростом коммерческой ценности жанра эти вопросы будут усиливаться.
В индустрии сейчас идёт активная дискуссия об этике жанра. Появился термин «этика боли» – подход, предполагающий, что важно не только содержательное соблюдение фактов, но и форма, тон повествования, уважение к чувствам пострадавших. В опросах 60% аудитории поддерживают идею такого ответственного подхода. Многие создатели теперь перед съёмками устанавливают контакт с родственниками жертв, предлагают им высказаться или как минимум предупреждают о выходе фильма. В ряде проектов доходы частично направляют в фонды помощи пострадавшим, на стипендии в память о жертвах – чтобы показать, что трагедия не используется лишь ради прибыли. Это новые этические стандарты, которые постепенно формируются. Возможно, в будущем они станут нормой – например, будет считаться неприемлемым выпускать фильм без консультации с семьёй жертвы, или общество не одобрят шоу, где убийцу выставляют в привлекательном свете. Сейчас же жанр переживает этап самоосмысления: как рассказать правдивую жуткую историю и при этом не ранить невинных повторно и не прославлять зло.
В индустрии сейчас идёт активная дискуссия об этике жанра. Появился термин «этика боли» – подход, предполагающий, что важно не только содержательное соблюдение фактов, но и форма, тон повествования, уважение к чувствам пострадавших. В опросах 60% аудитории поддерживают идею такого ответственного подхода. Многие создатели теперь перед съёмками устанавливают контакт с родственниками жертв, предлагают им высказаться или как минимум предупреждают о выходе фильма. В ряде проектов доходы частично направляют в фонды помощи пострадавшим, на стипендии в память о жертвах – чтобы показать, что трагедия не используется лишь ради прибыли. Это новые этические стандарты, которые постепенно формируются. Возможно, в будущем они станут нормой – например, будет считаться неприемлемым выпускать фильм без консультации с семьёй жертвы, или общество не одобрят шоу, где убийцу выставляют в привлекательном свете. Сейчас же жанр переживает этап самоосмысления: как рассказать правдивую жуткую историю и при этом не ранить невинных повторно и не прославлять зло.
IX. Прогноз и перспективы: куда движется жанр
Учитывая нынешние тенденции, можно предположить несколько направлений эволюции true crime в ближайшем будущем:
- Сохранение популярности и рост разнообразия. Вряд ли интерес аудитории угаснет – напротив, поколение, выросшее на подкастах и Netflix-документалках, продолжит потреблять такой контент. Edison Research в 2024 г. зафиксировали, что 84% американцев 13+ уже являются потребителями true crime-контента в той или иной форме. В России процент тоже высок (до 92% читающих). Эти цифры свидетельствуют: жанр почти универсально проник в массовую культуру. Скорее всего, производителей контента ждёт не сокращение аудитории, а её расслоение на ниши – разные группы будут хотеть разного стиля. Это мы уже видим: одни предпочитают кровавый реализм, другие – психологический анализ, третьи – исторические сюжеты. Индустрия ответит ростом специализации проектов. Будут появляться новые поджанры: скажем, true crime для подростков (с акцентом на кейсы, близкие молодёжи, в безопасной манере повествования), true crime для образованных снобов (расследования с упором на криминалистику), региональные вариации (например, истории преступлений Азии для азиатского рынка).
- Глобализация и локализация. До недавнего времени основной контент шел из США и Европы, но сейчас явный тренд – интернационализация. Африканские, азиатские создатели начинают рассказывать свои истории на глобальную аудиторию. В особенности, растёт интерес к местным кейсам: Edison Research отмечает, что 45% слушателей, которые пока не увлечены подкастами о преступлениях, готовы были бы слушать, если бы те фокусировались на их родном регионе. Это значит, что спрос на локальный контент будет удовлетворяться – и новые игроки (продакшны в разных странах) получат шанс заявить о себе. Для России это возможность экспортировать свои документальные истории: например, дело Чикатило или исторические криминальные загадки имперской России – потенциал для международных сериалов. В то же время, локализация предполагает адаптацию формата под культурные нормы. Возможно, в каких-то обществах будут менее терпимо относиться к натурализму – и местные версии жанра станут более сдержанными или, наоборот, более мистическими. В целом жанр станет более многоязычным и мультикультурным.
- Этический сдвиг и фокус на жертвах. Вероятно, под влиянием критики контент начнёт смещать перспективу с преступников на жертв. Уже сейчас 77% слушателей true crime-подкастов заявляют, что им интереснее, если истории были бы ориентированы на жертв (рассказ о том, кем был человек, чья жизнь оборвалась, и каково его близким). Такая заинтересованность заставит авторов менять нарратив. В будущем мы можем увидеть больше проектов, где главные герои – выжившие, родственники, адвокаты невиновно осуждённых. Например, сериал «Невозможно поверить» (2019) сфокусирован на девушке, пережившей насилие и добивающейся справедливости. Кроме того, могут появиться кодексы этики для жанра – негласные или официальные. Как сейчас журналисты стараются не публиковать фото лиц несовершеннолетних жертв, так и документалисты возможно введут правило: не реконструировать на экране сцен жестокости, если это лишнее; или получать согласие у семьи на публичное освещение истории (либо выслушать их позицию и упомянуть её). Конечно, коммерция диктует своё, но общественное мнение уже явно склоняется к более уважительному тону. Так что ответственный true crime может стать новым стандартом – тем более, что сама аудитория заявляет о такой потребности.
- Интерактивность и участие аудитории. Будущее медиа – за двусторонней связью, и true crime не исключение. Можно ожидать рост проектов, где зрители играют роль детективов: например, интерактивные сериалы, выпускаемые поэпизодно, между эпизодами публике дают задания найти что-то (как в ARG – альтернативных реальностях). Уже существуют настольные игры и квесты на основе реальных дел, и их популярность растёт. В цифровом формате это может вылиться в платформы, агрегирующие «общественные расследования». Такой подход не только вовлекает, но и приносит пользу: коллективный интеллект способен разгадать загадки, непосильные одиночкам. Правда, нужно аккуратно направлять эту энергию, чтобы не было самосуда. Возможно, при медиа появятся модераторы-кураторы – бывшие следователи или юристы – которые будут вести комьюнити поисковиков, структурировать их работу. То есть аудитория из пассивного потребителя окончательно превратится в активного соавтора расследований.
- Конвергенция с художественным контентом. Граница между документальным и игровым тоже будет размываться. Мы уже видим, как по мотивам реальных дел выходят художественные сериалы («Вампиры средней полосы» местами основан на слухах о маньяке, «Пищеблок» – отсылка к детским страхам 80-х и т.п.). В будущем возможно создание гибридных форм – докудрамы, где части реальных интервью переплетены с инсценировками, или интерактивные фильмы, где исход зависит от реальных данных (например, зрителю показывают несколько версий – и голосованием решают, какая ближе к истине). Эта синергия позволит привлекать ещё более широкую аудиторию: кто-то придёт за драмой с актёрами, а получит заодно знание о реальных фактах дела.
- Новые игроки и платформы. Перспективы открыты для новых создателей. True crime остаётся жанром, где независимый журналист или даже просто увлечённый человек может сделать хит (пример – YouTube-канал “Агата Кристи” с анонимным ведущим, набравший миллион подписчиков без поддержки СМИ). С развитием технологий (доступные камеры, монтажные программы, подкаст-платформы) порог входа будет оставаться низким. Это значит, что крупным студиям придётся конкурировать с инди-проектами за внимание публики. Возможно, появятся новые большие имена: сегодня известны в РФ Сулим, Бейнарович, а завтра может «выстрелить» кто-то из региональных журналистов, кто раскопает интересный кейс. В плане платформ можно ожидать, что социальные сети сами станут продюсерами. Например, TikTok уже тестирует долгие видео – не исключено, что они запустят серию документальных расследований внутри приложения для удержания пользователей. Spotify вкладывается в эксклюзивные подкасты о преступлениях – вероятно, конкуренты типа Apple или «Яндекс» тоже будут создавать оригинальный контент в этом жанре, чтобы привлечь аудиторию аудиосервисов. Так что рынок будет оживлён, и новые игроки (будь то медиакомпании или личности) вполне смогут занять свою нишу.
В итоге, жанр true crime из нишевой документалистики превратился в крупное культурное явление – и, по всей видимости, им и останется.
Человеческое любопытство к тайнам и тёмной стороне жизни неизбывно, а медиа продолжают предлагать всё новые формы удовлетворения этого интереса. Скорее всего, нас ждёт более зрелый и осознанный true crime: с уважением к реальным людям, с вовлечением сообщества, с разнообразием тем и форматов. Новые технологии и глобальная взаимосвязанность только усилят эффект присутствия и сопричастности. Можно надеяться, что жанр будет двигаться в сторону не только развлечения, но и просвещения – как говорят эксперты, лучшие образцы true crime в итоге помогают нам лучше понять общество и самих себя, осмыслить природу зла и задуматься о ценности жизни. А это значит, что у жанра есть не только прошлое и прибыльное настоящее, но и значимое и при правильном подходе полезное для общества будущее.